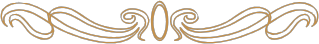Рец. на кн.: Кивельсон В. Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII века / Пер. с англ. Н. Мишаковой; науч. ред. пер. М. Кром. М.: Новое литературное обозрение, 2012

есть лет разделяют выход в свет монографии американского историка Валери Кивельсон «Cartographies of Tsardom»1 и ее публикацию на русском языке. За это время позиционирование автора в научном сообществе существенно изменилось. В 2006 г. в «послужном списке» В. Кивельсон было только одно крупное исследование о русском дворянстве и политической культуре XVII в.2 В последующие годы (не считая статей) она заявила о себе как соредактор научных сборников о Русской православной церкви, русской визуальной культуре и «новой» московской культурной истории3, а также подготовила к печати труд о колдовстве в России в XVII в., который выходит из печати осенью 2013 г.4 В настоящее время В. Кивельсон является профессором истории Мичиганского университета США5.
К изучению русских карт В. Кивельсон приступила еще в 90-х гг. прошлого века, опубликовав ранние версии глав 2 и 4 будущей книги в виде статей в 1999 г. (с.14)6. Вслед за «Картографиями» последовали новые статьи о картах7, а совсем недавно, весной 2012 г. В. Кивельсон выступила с лекцией «Отображение Святой Руси: картография и иконы в России раннего Нового времени» в рамках научного симпозиума, приуроченного к открытию выставки русских карт в музее русских икон в Клинтоне (штат Массачусетс, США)8.
Взяв в руки «Картографии», российский читатель не предполагает, что издательство «Новое литературное обозрение» полностью изменило внешний дизайн книги. На обложке американского издания «Картографий» помещена российская карта XVII в. — окрестности Углича — из фонда Поместного приказа РГАДА; она анализируется во второй главе книги (с. 65, 70). На обложке российского издания присутствует фрагмент плана Москвы С. Герберштейна, напечатанного в Базеле вместе с его «Записками» в 1566 г.9; В. Кивельсон упоминает о нем единожды в первой главе (с. 37). Такое издательское решение, вероятно, выгодно с точки зрения книжного маркетинга, но чревато мистификацией покупателя. Многочисленные рецензии на «Картографии»10 показывают трудности их определения в поле современного гуманитарного знания (во всяком случае, в рамки historia Rossica11 книга вписывается с большим трудом).
На наш взгляд, это связано, прежде всего, с особенностями языка и стиля В. Кивельсон — яркого по форме и далеко не всегда внятного по содержанию. Автор свободно переходит от научных дефиниций к публицистике, иронии и юмору; не различает «своего» и «чужого», «историографического» и «исторического»; многократно варьирует одни и те же тезисы; акцентирует эмпирические детали и пропускает необходимые теоретические обобщения. В. Кивельсон как будто приглашает читателя самостоятельно сформулировать цель и задачи исследования, его теоретические и методологические основания, историографическую базу, проблемное поле и т.д., поскольку ни одна из указанных позиций не представлена в книге четко и однозначно. «Картографии» воспринимаются как принципиально незавершенный текст, отражающий определенный этап реализации многолетнего исследовательского проекта В. Кивельсон, связанного с русскими картами. Это, в сущности, не одна, а несколько книг, собранных под общей обложкой по принципу дополнительности.
Источниковая база «Картографий» включает российские карты XVII в. и связанные с ними вербальные тексты; карты Западной Европы и Нового света XVI–XIX вв. (с. 131–133, 237–242); русские и западноевропейские иконы и фрески XIV–XVII вв. (с. 152–158).
Российские карты, в свою очередь, распадаются на две разновидности. Первая разновидность — это крупномасштабные рукописные топографические карты Центральной России (всего около 500 карт)12. Они создавались подьячими московских приказов или самыми разными грамотными людьми на местах13 и использовались в судебных процессах по поводу споров из-за недвижимого имущества. Подавляющая часть таких карт, поддающихся датировке, относится к последней четверти XVII в. Большинство их сохранилось в составе судебных дел, что обеспечивает возможность комплексного анализа (с. 19, 43–44). Вторая разновидность — это мелкомасштабные карты Сибири или ее отдельных регионов, изготовлявшиеся в XVII в. «работниками фронтира» — казаками, подьячими, дипломатами и т.д. Многие из этих карт также сохранились вместе с сопутствующими документами (с. 20, 162–163).
Историографическая база «Картографий» обширна и разнопланова: наряду с англо- и русскоязычными трудами по истории российской и мировой картографии (в том числе новейшими) она включает исторические, культурологические и историко-культурные исследования14.
Проблемное поле «Картографий» носит выраженный междисциплинарный характер, отражая «включенность» В. Кивельсон в такие направления современного гуманитарного знания, как новая культурная история (new cultural history)15, визуальные исследования (visual studies)16 и исследования пространства (cultural studies)17. Помимо этого, интересы автора связаны с теорией и историей картографии (мировой и российской) и историей России (особенно раннего Нового времени).
Основными элементами предметно-концептуального поля «Картографий» выступают «люди» и «места»18: варианты их взаимосвязи, по мнению В. Кивельсон, позволяют осмыслить многообразие исторического развития в Новое время (с. 23, 284). Если в Англии XVII в. «огораживания» привели к отрыву массы «людей» от их «мест», а в Новом Свете рабы не считались «людьми» и прикреплялись не к «месту», а к хозяину (с. 131), то в России ситуация была качественно иной. За исключением холопов, у которых не было ни прав, ни «мест», и бояр, чьим «местом», по сути дела, были Кремль и царский двор (с. 281–282), все остальное население было юридически и административно прикреплено к определенным «местам» и через это прикрепление обретало свой социальный статус, становилось подданными царя и жителями одной общей страны (с. 28–29).
Цели написания «Картографий» формулируются автором по-разному: показать особую роль пространства в истории России XVII в. (с. 279); обосновать научную значимость «субъективного» чтения карт (с. 22–24); пересмотреть ряд устоявшихся историографических представлений о России, в том числе о самодержавии, крепостничестве, духовно-религиозной жизни и формировании империи (с. 24).
Теоретические основания «Картографий» представлены в их тексте косвенно, отдельными «сопутствующими» замечаниями автора. В. Кивельсон интерпретирует феномены пространства и визуальности в контексте взаимодействия «видящего мозга» и «думающего глаза»19, а к картографическим практикам подходит как к одному из способов визуально-символического присвоения пространства человеком, видя в картах не «отражение», а конструирование реальности, что, в свою очередь, позволяет им быть активными участниками общественной жизни и социальных коммуникаций. На карте человек рисует пространство таким, каким, по его мнению, оно должно быть — в соответствии с его собственными представлениями о «своем» и «чужом», «правильном» и «неправильном» и т.п., а нередко следуя корыстным личным побуждениям. Будучи созданной, карта «отрывается» от своего автора и самостоятельно включается в разнообразные человеческие практики, начиная эксплуатировать свою априорную очевидность по принципу «изображено, значит существует». Карта обнаруживает особую «трансформирующую силу (с. 23 и след.) и может использоваться властью и населением для описания и контроля повседневной жизни; легитимации и унификации управления и суда; мобилизации и регулирования миграционных потоков; трансляции религиозных и светских смыслов и др.
Методология «Картографий», непосредственно ориентированная на анализ карт, может быть названа «субъективной»: В. Кивельсон сознательно перемещает исследовательский фокус с выяснения достоверности и полноты карт на раскрытие заложенных в них конкретно-ситуативных и общекультурных смыслов (с. 22–23). Наряду с этим, В. Кивельсон широко использует сравнительно-исторический анализ, сопоставляя российские картографические практики с современными им практиками Старого и Нового Света.
О методике «Картографий» можно судить по особому «вопроснику», используемому В. Кивельсон. Что и почему изображается (и не изображается) на карте? Каким образом на ней выделяется главное? В чем сходство и отличия в показе природно-географического ландшафта и артефактов, созданных человеком? Как показаны субъективно-смысловые связи отдельных визуальных элементов карты? Как соотносятся «картинка» и текст на карте, что и каким образом вербализуется? Какие факторы определяют размер и форму карты? Почему составлялись черно-белые и цветные карты? Как формируется общая цветовая палитра карты, как «работает» на ней каждый отдельный цвет?
Структура «Картографий», при общей логичности, обнаруживает заметное число сюжетно-тематических совпадений между главами. Остановившись на основных этапах и социально-политическом контексте развития российской картографии (гл. 1), В. Кивельсон переходит к рассмотрению местных карт Центральной России как «участника» судебно-имущественных тяжб XVII в. (гл. 2 и 3), а затем выявляет их общекультурные смыслы путем сопоставления с религиозной живописью (гл. 4). Вторая половина книги посвящена картам и текстам Сибири XVII в., которые анализируются с точки зрения их смыслового ряда (гл. 5), репрезентации «миссии» русских переселенцев (гл. 6) и положения нерусского населения (гл. 7), а также в качестве инструментов «протоимперской» территориальной экспансии первых Романовых (гл. 8).
В главе первой В. Кивельсон отмечает, что истоки российской картографической традиции восходят к XII в. («Степанов камень»), а первой русской бумажной картой, очевидно, следует считать набросок плана Кирилло-Белозерского монастыря конца XIV — первой четверти XV в. О более или менее выраженной практике составления карт в России можно говорить начиная с XVI в. При Иване Грозном20 уже составлялись уездные карты, но они не сохранились, как и «Большой чертеж» Бориса Годунова — первая попытка создать сводную карту всего государства.Во второй половине и особенно в последней четверти XVII в. начинается бурный рост российской картографии, обусловленный двумя важнейшими процессами эпохи: прикреплением населения к «местам» проживания и активизацией колониальной экспансии на восток. XVIII в. ознаменовался смелыми картографическими инициативами Петра I и всеобъемлющим Генеральным межеванием Екатерины II, в царствование которой научное топографическое картографирование стало неотъемлемой частью русской жизни (с. 33–47).
Во второй главе В. Кивельсон приступает к изучению местных карт в составе сохранившихся комплексов судебно-имущественных дел XVII в. из центральных районов России. Они отражают яркую картину ожесточенного столкновения противоположных интересов и устремлений, в центре которого почти неминуемо оказывается карта:
«После надлежащего разбирательства, в ходе которого приказные люди проверяли старые акты и документы, собирали сотни свидетелей, получали их показания и вместе с ними обходили границы от реки к ручью, от родника к болоту, от осины к дубу, ситуация развивалась стандартным образом. Проигравшая сторона, услышав приговор, с негодованием протестовала против коррупции и неправильного ведения расследования» (с. 75).
Аргументы сторон, как правило, создавали для представителей власти тупиковую ситуацию: в самом деле, как подтвердить или опровергнуть обвинения в том, что следователи в своих опросах ограничивались «ближними и не дальними людьми» (или наоборот); что они опрашивали свидетелей избирательно, а не поголовно; что они составили карты, ни разу не сходив на сами земли, и т.п. (с. 75–77). Власть, стремясь в точности следовать ею же выработанным запутанным юридическим правилам и процедурам, закрепленным в Соборном уложении 1649 г., либо отправляла дело на новое расследование, которое грозило аналогичным тупиком, либо откладывала его разрешение, — и тогда оно могло тянуться годами и десятилетиями. Изредка судьи выносили вердикт в пользу самой жалостливой или самой выгодной для них версии (с. 78).
«Государство не имело непосредственного доступа к местной “правде”, но из-за своих же правил не могло ничего решить без этой правды» (с. 79).
Судебная система первых Романовых была совершенно неэффективной, но ей удавалось дистанцироваться от участников судопроизводства, занимая позицию «над схваткой». Со своей стороны, подданные охотно использовали разнообразные инструменты манипулирования судом, в том числе и с помощью карт (с. 79–83). Отношения власти и населения, следовательно, включали элементы диалога и договора, что позволяет говорить о России XVII в. как стране с «культурой высокой законности», «успешном» государстве раннего Нового времени (с. 81–86).
На предъявляемых в суды картах, отмечает В. Кивельсон в главе третьей, российские крестьяне XVII в. не предстают как рабы или имущество. Наоборот, они воспринимают себя в качестве активных и признанных членов общества, имевших не только обязанности, но и определенные права, в том числе право давать свидетельские показания, на основании которых составлялись карты, и, таким образом, участвовать в имущественной тяжбе:
«Их подписи втискиваются в любое свободное место[карт], скапливаясь по краям, появляясь на листочках бумаги, приклеенных к нижнему краю, заполняя обороты и перетекая на дополнительные листы бумаги» (с. 113–114).
Поскольку размер наделов крестьян зависел от общего земельного фонда их господина, они были кровно заинтересованы в благожелательном для него решении суда. Обосновать право на землю можно было, доказав явное присутствие на ней крепостных, и здесь карта оказывалась просто незаменимой. Наряду с церквями и деревьями, крестьянские жилища (как правило, преувеличенных размеров) всегда присутствуют на местных картах, тогда как господская усадьба — лишь иногда21. Предъявляя такую карту в суд, землевладелец заявлял о себе как об уважаемом собственнике заселенных владений (с. 119, 124–126).
Запутанные поземельные отношения, свойственные России XVII в., резко контрастируют с визуально-однозначными (а нередко и эстетически привлекательными) образами местных карт (с. 109).
Карта представляла земельную собственность как территорию с четкими границами, имеющими особые видимые ориентиры, отделяющие ее от чужих владений, пустошей и других категорий земли. Некоторые карты просто поражают своей геометрической правильностью:
«Составитель карты… должно быть, пользовался линейкой и циркулем, либо обладал невероятно твердой рукой. Каждый угол — это идеальный прямой угол, каждая окружность имеет идеальную круглую форму, а ее концы ни на миллиметр не расходятся и не перекрывают друг друга» (с. 110)22.
В ландшафты Европейской России земельная собственность, однако, «вписывалась» с большим трудом, поскольку ее граница обыкновенно шла
«…вверх по дороге. За дорогою яма, а в ней береста, а от ямы на сосну, на ней грань и от сосны старою межею…» и т.д. (с. 96).
Опознаваемые ориентиры границ, отделявшие «свое» от «чужого», стихийно стирались природой и сознательно уничтожались людьми: реки меняли свои русла, болота высыхали, низины превращались в овраги, кустарник прорастал лесом; межевые ямы засыпали или запахивали, столбы выкорчевывали или переставляли на другое место, а клейма на деревьях намеренно стирали. К тому же составители карт и их информаторы случайно или намеренно путали названия и описания участков земли.
В общем и целом, карты, конечно, не могли навести порядок в расползающемся, непокорном, постоянно перемещающемся ландшафте (с. 99–107). В качестве инструментов «прямого и непосредственного социального действия» они оказались совершенно неэффективны; тем не менее, они
«…постепенно способствовали росту и укреплению крепостничества как за счет создания наглядной формы для его пространственного порядка, так и … благодаря наглядному и юридическому выражению взаимных и общих отношений к земле, которых требовало крепостничество» (с. 137–138).
В четвертой главе «Картографий» В. Кивельсон излагает свой вариант интерпретации внеситуативных (общекультурных) смыслов местных карт XVII в. Их яркий декоративизм на первый взгляд кажется явно избыточным. Ведь карта создавалась для практических целей, и ее автор, казалось бы, мог ограничиться черно-белым рисунком, деревьями без листвы и церквями без архитектурных деталей; в крайнем случае, было бы достаточно схематичных контуров и минимальных словесных пояснений (с. 141–142).
Почему же этого не происходит? В. Кивельсон рассуждает следующим образом. Создатели местных карт — это в основном представители средних слоев населения, весьма далекие от высокой столичной «книжной» культуры и к тому же непрофессиональные рисовальщики. Их визуально-культурный опыт формировался тем изобразительным материалом, с которым они постоянно сталкивались в повседневной жизни (с. 160), и в первую очередь религиозной живописью, язык которой — знакомый с детства, выразительный, упорядоченный, символически-смысловой — предоставлял в их распоряжение готовый набор образцов для изображения окружающего мира (с. 143, 146).
Появление на иконах развернутого природного и архитектурного фона и возникновение картографии в России происходили примерно в одно и то же время — во второй половине XVII в. (с. 155); религиозно-живописные и картографические практики взаимно обогащали друг друга, формируя единый визуально-культурный континуум.
«Несомненно сходство коврового рисунка лесов на картах с лесами на иконах. Похожие на цветы, многоярусные деревья, столь знакомые по иконографическим ландшафтам, несли на иконах определенный смысл. Если мы обратимся к иконографии как словарю визуальных символов, определение зеленого ландшафта будет очевидным: деревья обозначают рай — либо на земле, либо на небе» (с. 152).
Подобно иконам и фрескам, карты выражают радостное видение человеком своего места в Божьем мире и проецируют этот оптимизм на земное настоящее. Намеренно или нет, картографы изображали природу Московии одновременно как далекий отголосок потерянного Эдема — место, где живет, трудится и поклоняется Богу человек, — и как прообраз грядущего рая (с. 159).
В пятой и последующих главах «Картографий» В. Кивельсон обращается к мелкомасштабным картам Сибири, показывая их типологическую близость к крупномасштабным картам Европейской России: обе разновидности карт репрезентируют один и тот же тип взаимодействия природы, социума и визуально-культурных практик, характерный для России XVII в.
Русские переселенцы, сравнивая природу Сибири и природу Центральной России, находили в них больше различий, чем сходства. Что же касается сибирского социума, то он, вероятно, казался им знакомым и привычным: та же самая ситуация многообразия народов, верований, типов хозяйства и форм политической жизни издревле была характерной для Восточно-Европейской равнины, и к ней вполне привыкли (с. 224–225, 228).
Поэтому в Сибири, как и в Центральной России, власть старалась административно закрепить население за определенными «местами»23, а население идентифицировало себя «по месту», приобретая тем самым определенный социальный статус и связанные с ним права (с. 217).
Сибирским картографам не нужно было изобретать нового языка карт, поскольку в их распоряжении имелись и местные карты Центральной России, и религиозная живопись, откуда эти карты черпали свои визуальные знаки и смыслы. Они, пусть и не до конца последовательно, стремились представить сибирское пространство как привычное и узнаваемое, как продолжение Московии, «укрощая» его родными образами городов и церквей (с. 208).
Сибирские карты, как показывает анализ атласов и текстов С.У. Ремезова, были так же наполнены христианским смыслом, как местные карты Центральной России (с. 181–196). Сибирь могли изображать как ад или рай, а нередко — как тихую и счастливую отчизну, приглашавшую русских на свои просторные равнины в созданный Богом идеальный мир (с. 163, 172–178, 196).
И Европейская Россия, и Сибирь, с точки зрения создателей карт, в равной мере подтверждали чудеса Божественного творения, но первая представлялась благочестивой страной под управлением православного государя, где земля и люди были хранимы особой Божьей благодатью, а вторая — «пустым» пространством ужаса и проклятий, не озаренным Божественным светом (с. 200).
Русские переселенцы в Сибири, отмечает В. Кивельсон в шестой главе, не интерпретировали свою «миссию» в упрощенной логике «завоевания» и (или) «христианизации» (с. 202, 222):
«…русские считали, что им предназначено нести знамя православия, и достаточно было их собственного продвижения по континенту, чтобы христианство шло за ними следом» (с. 203–204).
Христианизация территории не обязательно предполагает обращение проживающего на ней языческого населения; достаточно расселить на ней русских православных людей и утвердить власть московского царя (с. 203, 208). «Христианизация без обращения» приводит, таким образом, к переплетению и слиянию «имперского» и «православного» (с. 222).
В главе седьмой В. Кивельсон изучает отношение русских переселенцев к местному населению Сибири. Колонизуя Новый Свет, европейцы ссылались на «право завоевания», «добровольное» получение территорий от местных вождей, «ненадлежащее» ведение хозяйства туземцами или важность обращения «невежественных» дикарей в «истинную» веру (с. 230). Русские переселенцы в Сибири также использовали похожие «аргументы», но чаще всего опирались на собственный исторический опыт, накопленный в Европейской России, стремясь зримо и наглядно показать свое реальное присутствие на той или иной территории: строили города, крепости и церкви (с. 231–233).
В. Кивельсон сравнивает русские карты Сибири и западноевропейские колониальные карты по трем параметрам: изображается ли местное население на карте; если изображается, то в каком контексте и каким образом. На европейских колониальных картах местное население либо полностью отсутствует, либо показано без привязки к конкретным географическим объектам: мало похожие на людей существа заполняют свободное место на листе бумаги, воспринимаясь, как экзотическая картинка или простой элемент декора (с. 237–239). Так создается впечатление незаселенной, свободной земли, которую впервые «открывают» люди — выходцы со Старого Света (с. 242).
На русских картах Сибири местное население обязательно присутствует и всегда «привязано» к определенной территории (в качестве географических ориентиров могут выступать, например, мечети и юрты); картографы приводят и местные топонимы (с. 243–244).
В. Кивельсон подмечает важную деталь: создатели сибирских карт стремились показать ее как множество «царств» с четкими внутренними границами и в то же время не акцентировали (а иногда вообще не фиксировали) государственные границы России (с. 248, 250–251).
Исторический опыт создания Российского государства путем «собирания земель» вокруг Москвы побуждал С.У. Ремезова и других сибирских картографов рисовать несуществующие границы несуществующих «царств», населенных несуществующими оседлыми народами (с. 254, 247–248). Сибирь должна была предстать в виде привычной мозаики разнообразных земель и пространств — завоеванных, номинально контролируемых или потенциально доступных, чтобы ее можно было упомянуть в конце официального титула царя Алексея Михайловича в качестве еще одной новой, отдельной, но неотъемлемой части Московского царства (с. 253, 257). Закрасить всю территорию Сибири одним цветом, превратив ее в огромное однородное «пятно», — так рисовали Британскую империю на картах более позднего времени — сибирские картографы не смогли бы даже в своем воображении (с. 252). Визуально присвоить пространство, не структурировав его, для них было невозможно.
В завершающей, восьмой, главе «Картографий» В. Кивельсон характеризует положение коренного населения Сибири во второй половине XVII в. Русская администрация, стремясь поддерживать «мир и порядок» в регионе, как правило, сохраняла сложившуюся там социальную организацию (с. 263). Народы Сибири, как и общественные «низы» в Европейской России, имели определенные права (с. 259, 268). Не подлежит сомнению, что русские широко применяли насилие в ходе завоевания и захвата Сибири, однако они не практиковали ни массового истребления местных племен и народов, ни их выселения с занятых территорий (с. 270, 277).
Рассчитывать на то, что в «Заключении» «Картографий» будут подведены «основные итоги исследования», можно лишь при самом поверхностном знакомстве с книгой В. Кивельсон: автор начинает «подводить итоги» уже во «Введении». Однако почти буквальные смысловые совпадения первых и последних страниц «Картографий» небесполезны для читателя, предоставляя в его распоряжение своего рода «входы» и «выходы» из пространства авторского текста:
«…московиты воспринимали свою роль в мире в значительной степени в терминах пространства… Царское государство определяло своих подданных, их жизни и судьбы в соответствии с тем пространством, которое они занимали, а московские подданные, в свою очередь, заявляли о себе как об обитателях определенных мест» (Введение, с. 26).
«Предлагая способ понять свое буквальное и — более широко — фигуральное место в мире, пространственный анализ позволял московитам пустить корни в обществе, в мире и в божественном космосе, давая смысл и цель, статус и признание в обществе, которое во многих других отношениях страдало от неопределенности» (Заключение, с. 279).
--------------------------------------
1 Kivelson V. Cartographies of Tsardom: The Land and Its Meanings in Seventeenth-Century Russia. Cornell University Press, 2006.
2 Autocracy in the Provinces: The Muscovite Gentry and Political Culture in the Seventeenth Century. Stanford University Press, 1996.
3 Orthodox Russia: Belief and Practice under the Tsars / Edited by V. Kivelson, R.Green. The Pennsylvania State University Press, 2003; Picturing Russia: Explorations in Visual Culture / Edited by V. Kivelson, J. Neuberger. New Haven; L.: Yale University Press, 2008; The new Muscovite cultural history: a collection in honor of Daniel B. Rowland / Edited by Valerie A Kivelson; Daniel B Rowland; et al. Bloomington, Ind.: Slavica Publishers, 2009.
4 Desperate Magic: The Moral Economy of Witchcraft in Seventeenth-Century Russia. — Expected publication: October 2013 by Cornell University Press.
5 См.: http://www.lsa.umich.edu/history/people/faculty/ci.kivelsonvaleriea_ci.detail
6 Здесь и далее в скобках указаны страницы книги В. Кивельсон.
7 См., напр.: Kivelson V. Mapping serfdom: peasant dwellings on seventeenth-Century litigation Maps // Picturing Russia… P. 47–50.
8 См.: http://museumofrussianicons.org/en/visit/what-s-happening/events-calendar/symposium-comprehensive-review-of-historic-russian-cartography/
9 См.: Герберштейн С. Записки о Московии/ Пер. с нем. А.И. Малеина и А.В. Назаренко вступ. ст. А.Л. Хорошкевич; под ред. В.Л. Янина. М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 367–368.
10 См., напр.: Charles Halperin. Review of «Cartographies of Tsardom: The Land and Its Meanings in Seventeenth-Century Russia» and «Ocherki istorii rossiiskoi simvoliki: Ot tamgi do simvolov gosudarstvennogo suvereniteta» // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2007. Vol. 8. No. 4. P. 887–896; Turnbull D. Review of «Valerie Kivelson. Cartographies of Tsardom: The Land and Its Meanings in Seventeenth- Century Russia. Ithaca: Cornell University Press, 2006» // Comparative Studies in Society and History. 2008. Vol. 50. P. 819–820; Берелович А. Картографии царства. Земля и ее образ в России XVII в. Итака; Лондон: Корнелл университи пресс, 2006 // Средние века. Вып. 69 (4). М., 2008. С. 49–55; Чекин Л.С. Пространственные представления в Московском государстве и ориентации русских географических чертежей второй половины XVII в. // Вопросы истории естествознания и техники. 2008. № 2. С. 156–165; Кром М.М. В. Кивельсон. Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII в. // Отечественная история. 2008. № 6. С. 150–152; Борисов В. Valerie A. Kivelson, Cartographies of Tsardom: The Land and Its Meanings in Seventeenth Century Russia (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006) // Ab Imperio. 2009. № 1. С. 448–455; Мильчин К. Книга Валери Кивельсон: Паранойя невиданных масштабов // Ведомости. 06.07.2012; Краснослободцев В. Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII века — http://mingitau.livejournal.com/184590. html; Стахов Д. Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII века. // Московский книжный журнал. 25.07.2012 — http://morebo.ru/newbooks/item/1343218712234?category_id=37; Мирошкин А. Чертеж цвета осени // НГ-Exlibris. 14.02.2013.
11 Так, кстати, называется серия издательства «Новое литературное обозрение», в которой «Картографии» были опубликованы в России.
12 В. Кивельсон составила карту районов происхождения этих источников, извлеченных из фонда Поместного приказа РГАДА и в основном локализующихся в центре Восточно-Европейской равнины. См. с. 21.
13 В их числе местные воеводы, дворяне и дети боярские, солдаты, межевщики, писцы и др.
14 Текст книги снабжен подробными авторскими примечаниями библиографического и аналитического характера (с. 284–332), списками архивных источников и опубликованных работ (с. 333–352), а также именным указателем.
15 См., напр.: Cultural Studies/ Еdited by Lawrence Grossberg, Cary Nelson, Paula Treichler. New York and London: Routledge, 1992.
16 См., напр.: Mitchell W.J.T. What is Visual Culture? // Irving Lavin, ed./ Meaning in the Visual Arts: Views from the Outside. Princeton, NJ: Institute for Advanced Study, 1995.
17 См., напр.: Landscape and Power/ Edited by W.J.T. Mitchell. 2nd edition. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2002.
18 В таком контексте «место» для В. Кивельсон встраивается в синонимичный ряд с «очеловеченным» пространством, определенной территорией, где живут и трудятся люди.
19 См., напр: Zeki Z. A vision of the brain. London: Blackwell Scientific Publications, 1993; Enns J. The thinking eye, the seeing brain: explorations in visual cognition. New York: W.W. Norton, 2004.
20 В. Кивельсон справедливо рассматривает писцовые книги как «словесные карты государства и его ресурсов» — см. с. 39.
21 В. Кивельсон показывает, что русские карты XVII в. похожи на современные им английские кадастровые карты, где часто изображались дома фермеров-арендаторов. На картах имений, составлявшихся в тот же период в английских колониях в Северной Америке, где рабы считались движимым имуществом, их жилища отсутствуют (с. 131–133).
22 Речь идет о карте, составленной дьяком Поместного приказа Андреем Смоляниным — см. с. 112.
23 Применительно к кочевым племенам это удавалось сделать только на карте — с. 243–244.